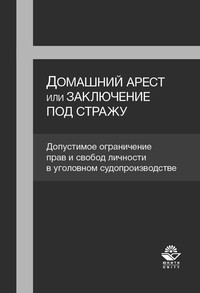Домашний арест или заключение под стражу. Допустимое ограничение прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве
Покупка
Тематика:
Уголовно-процессуальное право
Издательство:
ЮНИТИ-ДАНА
Под ред.:
Логунов О. В.
Год издания: 2018
Кол-во страниц: 107
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-238-03068-5
Артикул: 687644.02.99
Доступ онлайн
В корзину
Учебное пособие соответствует учебной программе «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» в части тем, посвященных мерам уголовно-процессуального принуждения. Рассматриваются вопросы заключения под стражу и домашнего ареста при производстве по уголовным делам. Для курсантов, слушателей и студентов юридических вузов, может быть использовано в работе сотрудниками правоохранительных органов, занятых в уголовно-процессуальной деятельности.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- Среднее профессиональное образование
- 40.02.02: Правоохранительная деятельность
- 40.02.04: Юриспруденция
- ВО - Бакалавриат
- 40.03.01: Юриспруденция
- ВО - Специалитет
- 40.05.01: Правовое обеспечение национальной безопасности
- 40.05.02: Правоохранительная деятельность
- 40.05.03: Судебная экспертиза
- 40.05.04: Судебная и прокурорская деятельность
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Э.К. Кутуев, С.В. Петраков, С.В. Яшин
Домашний арест или заключение под стражу
Допустимое ограничение прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве
Под общей редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, кандидата юридических наук О.В. Логунова
Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»
Рекомендовано Международным учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»
Электронные версии книг на сайте Международной электронной библиотеки «Образование. Наука. Научные кадры» www.niion.org
ю н и т и UNITY Закон и право • Москва • 2018
УДК 343.126(075.8)
ББК 67.410.207я73-1
К95
Рецензенты:
доктор юридических наук, профессор И.А. Антонов (Краснодарский университет МВД России) кандидат юридических наук В.С. Латыпов (Уфимский юридический институт МВД России)
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Кутуев, Эльдар Кяримович.
К95 Домашний арест или заключение под стражу. Допустимое ограничение прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Э.К. Кутуев, С.В. Петраков, С.В. Яшин; под ред. О.В. Логунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 107 с.
I. Петраков, Сергей Викторович.
II. Яшин Сергей Владимирович.
ISBN 978-5-238-03068-5
Агентство CIP РГБ
Учебное пособие соответствует учебной программе «Уголовнопроцессуальное право (Уголовный процесс)» в части тем, посвященных мерам уголовно-процессуального принуждения. Рассматриваются вопросы заключения под стражу и домашнего ареста при производстве по уголовным делам.
Для курсантов, слушателей и студентов юридических вузов, может быть использовано в работе сотрудниками правоохранительных органов, занятых в уголовно-процессуальной деятельности.
ББК 67.410.207я73-1
ISBN 978-5-238-03068-5
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2018
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.).
Воспроизведение всей книги или какой-либо ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.
Введение
Изучение учебной литературы по уголовно-процессуальному праву (уголовному процессу), преподаваемому по ряду специальностей, приводит к выводу, что такой аспект уголовно-процессуальной деятельности, как соотношение домашнего ареста с заключением под стражу в плоскости компромисса публичного порядка и обеспечения свободы и неприкосновенности личности до ее осуждения, рассматривается недостаточно полно. Вместе с тем изучение статистических данных свидетельствует, что ежегодно количество фактов избрания меры пресечения в виде домашнего ареста поступательно увеличивается. Количество ежегодно избранных мер пресечения снижается, но продолжает оставаться на достаточно высоком уровне по сравнению с домашним арестом. При этом, как следует из позиций уголовно-процессуальной политики, нашедшей отражение в уголовно-процессуальном законе, Послании Президента РФ Федеральному Собранию, решениях Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, домашний арест необходимо рассматривать как альтернативу заключению и содержанию под стражей.
Таким образом, одной из насущных потребностей образовательного процесса в рамках дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» является углубление знаний обучающихся по соотношению таких мер пресечения, как заключение под стражу и домашний арест, с позиции обеспечения прав личности.
Настоящее учебное пособие может быть использовано в качестве источника дополнительной литературы. Использование данного пособия в образовательном процессе и самостоятельной работе может способствовать расширению и углублению знаний обучающихся по приведенным вопросам. Помимо этого, материалы пособия могут быть применены и в практической деятельности должностных лиц органов уголовной юриспруденции.
Глава 1
Домашний арест как компромисс публичного порядка и частного интереса в уголовном судопроизводстве
1.1. Баланс публичного и частного начал в ходе применения домашнего ареста в уголовном судопроизводстве
В соответствии со ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
При этом в соответствии с ч. 2 указанной нормы уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.
Как видим, законодатель даже в самом назначении уголовного процесса, являющимся одним из его принципов, уже обозначает соотношение публичного и частного интересов при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Действительно, уголовный процесс, сама его процедура необходимы для того, чтобы обезопасить общество и государство от лиц, представляющих для них опасность. Вместе с тем в эту процедуру, которая может длиться месяцами, неизменно вовлекаются лица (предполагаемые преступники), которые де-юре станут таковыми лишь после вступления обвинительного приговора суда в законную силу. До этого же момента в отношении этих лиц действует принцип презумпции невиновности, и они как для общества, так и для государства должны расцениваться как лица, не совершившие преступления.
Проблема заключается в том, юридическое признание человека виновным (преступником) не делает его неопасным для
4
общества, государства и конкретно взятых личностей. Это связано с тем, сам уголовный процесс имеет дело с преступлениями и преступниками так таковыми, пусть и юридически не доказанными. Таким образом, предполагается опасность для правомерных граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, со стороны лиц или лица, совершивших преступление. Именно поэтому законодатель одновременно при введении принципа презумпции невиновности вводит и процедуру избрания мер пресечения, цель которой — создание условий для минимизации угрозы противоправного воздействия на потерпевших, свидетелей со стороны подозреваемого, обвиняемого. Ограничения, которым может быть подвергнуто лицо при избрании мер пресечения до признания его судом виновным, непосредственно влияет на его частную жизнь. Он может быть существенно ограничен в правах для обеспечения публичных интересов общества и государства. Исходя из этого, Н.А. Карпунина приходит к выводу, что «сутью реформирования уголовного процесса является оптимальное соотношение интересов личности, общества и государства при производстве по уголовному делу»¹. При этом, подчеркивает она, «неприкосновенность частной жизни граждан есть непременное условие создания правового государства и гражданского общества»². Затрагивая понятие «публичность», необходимо отметить, что в названии параграфа мы использовали словосочетание «публичные начала», но публичность в уголовном процессе в самом широком понимании — это даже скорее не начала, это суть самого механизма уголовного судопроизводство. Обусловлено это тем, что именно стремление государства обезопасить как себя, так и общество и отдельно взятые личности от опасных для них элементов запускает механизм публичного разрешения возникшей ситуации. Именно публичность и охрана общественного интереса являются доминантами в уголовном процессе. «Публичность — это выражение преимущества общественного интереса как разумного сочетания множества частных. Применительно к уголовному процессу публичность — это главная ¹ Карпунина НА. Охрана частной жизни как принцип российского уголовного процесса: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 9. ² Там же. 5
характеристика, на которой основаны все принципы, правила, общие условия и система данной отрасли права»¹. С.А. Касаткина также считает, что публичность является основополагающим началом уголовного процесса; диспозитивность выступает дополнительным элементом организации уголовно-процессуальной деятельности². Продолжая научное обоснование своих положений, она указывает, что соотношение публичности и диспозитивности в уголовном процессе находится в прямой зависимости от уровня развития государства и общества и диспозитивность в уголовном процессе России имеет тенденцию к расширению»³. Л.А. Меженина, развивая свою мысль, прямо заявляет, что «соотношение публичности и диспозитивности следует признать принципом уголовного процесса, содержанием которого должно стать правило преимущества публичного начала над частным в виде гарантий защиты прав участников процесса, а формой — определенные законодателем границы их личного усмотрения»⁴. Действительно, без фундамента публичности, на котором и формируется уголовный процесс, просто невозможно представить его эффективное функционирование. Причина тому — преступление как общественно опасное деяние. Поэтому, как указывал Конституционный Суд РФ в ряде своих решений, публичные интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей (постановления от 27 апреля 2001 г. № 7-П⁵, от ¹ Меженина Л.А. Публичность российского уголовного процесса: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 6. ² Касаткина С.А. Публичность и диспозитивность в российском уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 6. ³ Касаткина С.А. Указ. соч. С. 6—7. ⁴ Меженина Л.А. Указ. соч. С. 6. ⁵ Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами открытых акционерных обществ «АвтоВАЗ» и «Комбинат «Североникель», обществ с ограниченной ответственностью «Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная компания», товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное российско-южноафриканское предприятие «Эконт» и гражданина А.Д. Чулкова» // Российская газета. 2001. 6 июня. 6
октября 2003 г. № 15-П¹, от 22 марта 2005 г. № 4-П², от 14 июля 2005 г. № 9-П³ и от 16 июня 2009 г. № 9-П⁴). Частный интерес и его охрана от притязаний и ограничений со стороны публичных органов государства есть не что иное, как частные начала в уголовном судопроизводстве. При этом ни много ни мало сама Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни. Сфера частной жизни «носит глубоко индивидуальный, неповторимый характер, в связи с чем является наиболее уязвимой для всевозможных вмешательств и проникновений со стороны государства»⁵. Поэтому «многие законодательные акты, включая Конституцию РФ, гарантируют гражданам право на неприкосновенность частной жизни, которое представляет собой емкую юридическую категорию, включающую ряд правомочий лица, интересы которого защищаются, и соответствующие им обязанности государственных органов»⁶. Поскольку речь в данной части работы идет о домашнем аресте как разновидности мер пресечения, то частные начала ¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // Российская газета. 2003. 31 октября. ² Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» // Российская газета. 2005. 1 апреля. ³ Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа» // Российская газета. 2005. 22 июля. ⁴ Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» // Российская газета. 2009. 3 июля. ⁵ Карпунина Н. А. Указ. соч. С. 10. ⁶ Там же. 7
применительно к этой тематике — это не что иное, как интерес лица, имеющего статус подозреваемого или обвиняемого, не быть ограниченным в своей свободе путем применения к нему этой меры пресечения. При этом данный интерес не обусловлен тем, действительно ли лицо совершило преступление. Естественное желание даже того, кто причастен к совершению преступления, — это быть не ограниченным в своем передвижении и общении, а в идеале — не быть осужденным за вменяемое деяние. Для ограничения свободы подозреваемого или обвиняемого, путем применения к нему домашнего ареста необходимы два условия: 1) предварительные доказательства причастности лица к совершенному преступлению и вины; 2) доказательства наличия хотя одного основания для применения мер пресечения. Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. В конкретном уголовном деле получается, что доказательства вины являются предварительными. С учетом этого вопрос о мере пресечения может вставать на начальном этапе расследования. Эи доказательства могут быть потом опровергнуты, а доказательства наличия оснований для избрания мер пресечения всего лишь указывают на гипотетическую возможность того, что лицо может скрыться, может продолжить преступную деятельность и может угрожать участникам. Противоположность такого вывода — это то, что лицо может и не желать скрываться, продолжать преступления или высказывать угрозы. Именно в этой острой ситуации в рамках публичности частный интерес лица проявляется наиболее ярко. Здесь столкновение и противопоставление публичных и частных начал в уголовном процессе порождают активное противодействие подозреваемого, обвиняемого публичным лицам государства. Личная свобода — одно из наиболее существенных естественных прав 8
любого лица. И его законный интерес состоит в том, чтобы не быть незаконно ограниченным в своей свободе, даже в случае причастности к преступлению. Вышеуказанное право порождают и определенную проблематику для дознавателя, следователя и суда. Реализующие свои функции на началах публичности, они обязаны учесть и частный законный интерес лица — не быть незаконно ограниченным путем применения домашнего ареста. То есть, с одной стороны, публичные лица одновременно обязаны принять меры и к ограничению общества и отдельно взятых личностей от субъекта, представляющего гипотетическую опасность, и с другой — не нарушить право этого субъекта на личную неприкосновенность и свободу передвижения. Несмотря на то что домашний арест не так ограничивает свободу личности, как заключение под стражу, эта мера пресечения тем не менее может существенно затронуть частные интересы подозреваемого, обвиняемого. В соответствии с ч. 7 и 8 УПК РФ суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств может ему запретить и (или) ограничить: 1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 2) общение с определенными лицами; 3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам и (или) ограничениям, перечисленным выше, либо некоторым из них. При этом исходя из ч. 13 ст. 107 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый может быть помещен под домашний арест в условиях полной изоляции от общества. Представляется, что частный интерес не быть ограниченным в своей свободе будет претерпевать серьезные стеснения исходя из публичных интересов. Еще до внесения законодателем существенных поправок в ст. 107 УПК РФ в юридической литературе предлагалось понимать под домашним арестом «меру пресечения, избираемую по решению суда в отношении обвиняемого (подозреваемого), заключающуюся в ограничении свободы его передвижения путем полной или частичной изоляции в пригодном к проживанию жилище и установлении предусмотренных законом правоогра- 9
ничений»¹. Но не все представители науки уголовного процесса считали, что в рамках домашнего ареста возможна полная изоляция от общества. Наука и законодатель единодушно сошлись во мнении, что субъект преступления может быть полностью изолирован от общества. Так, А.Е. Григорьева придерживалась мнения, что домашний арест — это «есть мера пресечения, применяемая по решению суда при наличии оснований и в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ, заключающаяся в относительно нестрогой изоляции по месту временного или постоянного проживания и наложении ряда правоограничений ...»². Есть определенная логика в приведенной позиции. С учетом современного развития техники и информационных ресурсов, а также отсутствия личного круглосуточного контроля за лицом, помещенным под домашний арест, весьма нереальным представляется полная изоляция лица от общения с другими лицами. Вместе с тем законодатель пошел по другому пути. В.А. Светочев еще более широко по сравнению с современной редакцией ст. 107 УПК РФ предлагал ограничить свободу подозреваемого, обвиняемого. Так, «сущность домашнего ареста заключается в ограничении прав и свобод обвиняемого (в исключительных случаях — подозреваемого) посредством судебного установления ограничений и запретов, связанных со свободой передвижения, когда полная изоляция лица не вызвана необходимостью; общением с определенными лицами; получением и отправлением корреспонденции; ведением переговоров с использованием любых средств связи с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств»³. Как видим, автор предлагал более широко подойти к ограничению на использование любых средств связи для исключения каких-либо расхождений в юридической терминологии с фактическими обстоятельствами. Такой же позиции придерживался Е.В. Салтыков, указывая, что «сущность домашнего ареста можно обозначить. вести переговоры с использованием любых средств связи»⁴, а также А.Е. Григорьева⁵. ¹ Светочев Б.А. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2009. С. 8. ² Григорьева А.Е. Вопросы теории и практики избрания следователями органов внутренних отдельных мер пресечения: залога и домашнего ареста: Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2009. С. 7—8. ³ Светочев Б.А. Указ. соч. С. 8. ⁴ Салтыков Е.Б. Домашний арест в российском уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. С. 6. ⁵ Григорьева А.Е. Указ. соч. С. 7—8. 10
Доступ онлайн
В корзину